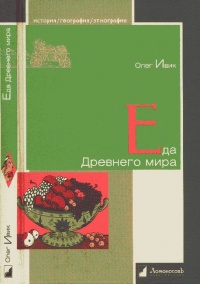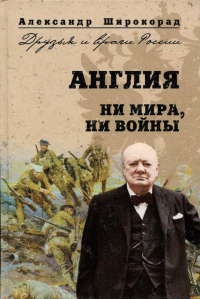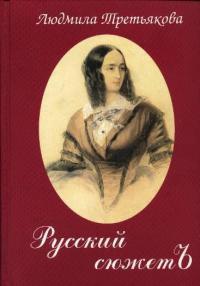болтала ногами, пытаясь не думать об ужине, как вдруг услышала знакомый голос.
– Товарищ Стелла! – Через площадь, ссутулившись и сунув руки в карманы от холода, ко мне шел Давиде. – Ты не представляешь, как я рад тебя видеть.
Я тоже обрадовалась, увидев его. После дня Освобождения мы встречались пару раз, не больше. Давиде задержался в Ромитуццо, только чтобы убедиться, что наши раненые идут на поправку, а новой власти ничто не угрожает, а потом он уехал во Флоренцию, незадолго до того тоже освобожденную, работать в больнице. Я знала, что время от времени Давиде приезжает повидаться с Лючией, но старалась держаться от дома Фрати подальше. Хватит с меня и того, что я вижу Энцо в гараже, наблюдаю, как они на пару с отцом игнорируют меня.
Давиде сел рядом и улыбнулся.
– Я слыхал, на тебе комитет держится. Мелькаешь по всему городу, при пистолете и в косынке, хоть и не того цвета.
Давиде подшучивал, а я не знала, как отвечать. В горле засаднило, и я с ужасом поняла, что сейчас расплачусь.
– Мы все антифашисты, – сказала я куда резче, чем намеревалась.
– Я знаю, знаю. – Давиде толкнул меня плечом. – Извини. Скажу честно: я рад, что у Ромитуццо есть такой человек, как ты, – серьезная, готовая работать, учиться, а потом снова работать. Смотришь на таких людей – и понимаешь, что нас ждет лучшее будущее.
Поздно. Слезы уже катились по моим щекам, и мне было ужасно стыдно.
– Боже мой. – Давиде обнял меня. – Что случилось, Стелла? Рассказывай.
И я все ему рассказала. Не могла остановиться. Я выплакала все, заикаясь и запинаясь: и что родители жестоко поступают со мной, что Энцо относится ко мне с пренебрежением, а Акилле – мой дорогой Акилле, мой друг, мой союзник – ничего этого даже не замечает.
– Это несправедливо, – всхлипнула я напоследок, как обиженный ребенок, да я и была обиженным ребенком. – Несправедливо!
Давиде обнял меня так крепко, что я уткнулась лицом в отворот его шерстяного пальто, от которого пахло табаком и свежим воздухом.
– Да, – тихо прошептал Давиде мне на ухо. – Это несправедливо. Ты не заслужила, чтобы с тобой так обращались. Но у тебя есть я, а у меня – ты, и вместе мы выстоим, что бы ни случилось. Даже если против нас будет весь мир. Верно?
Говорить я не могла и в ответ только кивнула.
– Хорошо. – Давиде ослабил объятия и по-братски поцеловал меня в лоб. Я думала, что он сейчас отодвинется, но он не отодвинулся. Долго еще мы сидели, обнявшись, как плакальщики на похоронах.
До этого дня мы не обнимались ни разу. И не обнимались потом. Но скажи я об этом сейчас – кто в Ромитуццо мне поверит?
* * *
В ту зиму дон Ансельмо старел и сдавал просто на глазах. Передвигался он теперь медленно, к еде еле притрагивался, а печаль его не утихала. Мне, конечно, надо было понимать, что происходит. Но я все равно испытала потрясение, когда он однажды вечером, в марте, позвал меня к себе и после тщательных приготовлений и нескольких долек драгоценного шоколада из своих запасов объявил, что покидает наш приход.
– Но когда? – спросила я. – И почему?
– Насчет «когда» пока неизвестно, нам еще не прислали преемника дона Мауро, не говоря уже обо мне. Война и тут все осложнила. Но я удалюсь от дел, как только появится такая возможность. А что касается «почему»… – Он посидел, глядя в огонь. – Доктор Бьянки не говорит мне ничего утешительного ни о сердце, ни о почках, ни о желудке, но правда заключается в том, дорогое мое дитя, что я устал. Я сражался долго, очень долго, и у меня просто не осталось сил. Ни физических, ни здесь. – Он постучал пальцем по груди. – К тому же у меня есть известные обязанности.
– Перед Богом? – спросила я. Дон Ансельмо взглянул на меня и улыбнулся:
– Перед архиепископом. Хотя я искренне считаю, что они с Господом заодно, судя по тому, как они действуют.
Мне хотелось спорить, хотелось умолять его остаться с нами хотя бы пока война не кончится, но я не могла. Спорить было бессмысленно.
– Где же вы будете жить? – спросила я.
– Полагаю, что на юге. Может быть, на самом юге, на Сицилии. Я слышал, там прекрасный пансионат для стариков, на берегу, недалеко от Палермо. Говорят, климат там поистине целительный.
Когда я уходила, дон Ансельмо положил руку мне на плечо:
– Прошу тебя, дитя мое, никому ничего не говори. Пока я сам все не выясню, такая новость только взволнует наш приход, а это ни к чему, особенно сейчас. Просто мне хотелось, чтобы ты знала о моем решении.
– Но вы же попрощаетесь, прежде чем уехать? Вы не покинете нас, не сказав ни слова?
– Конечно, попрощаюсь, дорогая Стелла, если Господь мне позволит. Мне бы очень не хотелось, чтобы тебе казалось, будто тебя бросили.
Когда я пришла домой, Акилле еще не вернулся, а родители уже спали. В кухонной раковине громоздилась грязная посуда, посреди стола я увидела корзину с бельем, которое я выгладила утром, перед тем как уйти в школу. Вещи выглядели так, будто их сердито скомкали и пошвыряли как попало.
Рядом с корзиной лежала бумажка, на которой почерком матери – решительным, с наклоном – было написано:
Стелла,
Вымой посуду
Отскреби пол
Вычисти печь
Выглади вещи как следует
Я села за стол и закрыла лицо руками. В висках стучало, из головы не шли слова дона Ансельмо: «Мне бы очень не хотелось, чтобы тебе казалось, будто тебя бросили».
Но именно так я себя чувствовала в ту минуту. Меня бросили родители, от которых я зависела так отчаянно, что меня это злило. Меня бросил Акилле, меня бросил дон Ансельмо, все меня бросили.
Я уже тогда знала, что покину Ромитуццо, как только война закончится. Ничто не стоит того, чтобы оставаться здесь, – ни школа, ни перспектива стать учительницей, ни безопасность и крыша над головой. Я найду место, где я буду нужна. А это место я покину.
* * *
На следующее утро Акилле, спустившись на кухню, застал меня у гладильной доски.
– Привет, сестренка, – сказал он. – Трудишься не покладая рук? У тебя случайно не найдется чистой рубашки для меня? Не уверен, что в этой можно проходить еще день.
– Все твои рубашки я выгладила вчера.
Я не спала и тех нескольких часов, что мне были дозволены. Просто лежала в кровати, кипя от злости, и до бесконечности перечисляла обиды, которые нанесли мне родители в последние месяцы. А потом встала,